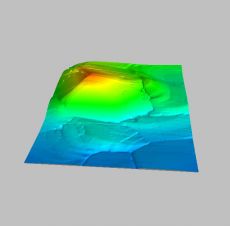Став генеральным директором, а потом председателем правления РОСНАНО, вы взяли на себя ответственность за всю инновационную экономику России. Вернее, так это иногда преподносят. Есть ли в других странах аналоги вашей роли?
На самом деле, это не так – за инновационную экономику в правительстве отвечает Аркадий Дворкович. А если смотреть на ключевые государственные институты развития, то вы должны помнить о Сколкове, РВК, Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Да мы и сами не считаем, что главным может быть кто-то один. И я крайне рад позитивному взаимодействию с коллегами.
Какую ситуацию мы можем увидеть, если посмотрим на весь остальной мир? Как минимум полтора десятка ведущих стран приняли национальные инициативы по развитию наноиндустрии – от США и Китая до Южной Кореи и Финляндии. Россия начала это делать чуть позже, с 2007 года, но все же мы пытаемся прорваться в передовой отряд. Так что в этом смысле в мире есть ситуации, аналогичные нашей. Но есть и существенные отличия. Скажем, американская нанотехнологическая инициатива фокусируется только на науке – финансировании той части инновационного цикла, которая из иных источников средств не получит. Мы же изначально хотели создать конкурентоспособную индустрию, и наша главная задача – объем производства нанопродукции в России. И для достижения этой цели необходимы серьезные ресурсы и средства – больше, чем необходимо американской программе развития нанотехнологий.
Можно ли теперь говорить, что инфраструктура для наноиндустрии в России более подготовлена, чем в странах, претендующих на лидерство в этой отрасли?
Конечно же, инновационная инфраструктура у нас менее подготовлена – в 2008–2009 годах она находилась на стадии «ноль» или даже «минус». Ее просто не существовало. Я бы описал эту ситуацию так: в ортодоксальной модели достижения науки внедряются в производство, что дает науке средства на дальнейшие исследования. А у нас этот процесс не работает уже на первом этапе. В чем причина? В том, что помимо науки и производства есть еще один мир, который называется «инновационная экономика». Этот мир сопоставим и с наукой, и с производством – по сложности и отраслевой дифференциации, по составу элементов и нормативной базе, по юридической основе и уровню необходимой компетенции. Наука у нас была, производство было, а вот инновационной экономики в этом смысле слова не существовало в принципе. Причем внутренние отличия инновационных циклов в разных отраслях колоссальные. Инновационная экономика при переходе от науки к производству в фармацевтической отрасли и, например, в микроэлектронике – это совершенно разные вещи. В мире инновационной экономики есть еще десятки отраслевых миров, и каждый из них живет по своим законам. В этом смысле у нас отсутствовали необходимые, базовые категории: и законодательство, и инфраструктура, и компетенции.
Хронология нанотехнологий такова: в 1980–1990-е годы появилось большое количество научных работ и первых технологических прорывов, связанных с нано. Вспомните знаменитую фразу Ричарда Фейнмана: «Там внизу очень много места» (1961). «Там» – это на один уровень ниже, чем микро. В 1990-е годы после осознания возможности воздействовать на вещество на этом уровне последовало открытие важнейших и элементарных материалов и структур: фуллеренов, графена и нанотрубок. Нобелевскую премию за графен Андрей Гейм и Константин Новоселов получили уже в 2010-м
Конечно, процесс внедрения научных достижений в плановой экономике существовал. Но для условий свободного рынка подходили очень немногие из таких механизмов. Тем более что я сам в «мирной жизни» – до всяких политических задач – десять лет проработал в этой сфере на кафедре экономики исследований и разработок и хорошо понимаю, как это было устроено в советское время. Так что инновационная экономика создается практически с нуля.
Можно ли еще раз коротко проговорить, в чем смысл и назначение РОСНАНО? Почему это направление фундаментально важно для всего мира?
Давайте начнем со слова «нано». Все мы помним, что лет 30–40 назад возникло понятие «микро» (микроэлектроника, микробиология и прочее), которое относилось не к чистой науке, а к технологиям. Выяснилось, что в микродиапазоне (10 в минус шестой степени) можно успешно осуществлять целенаправленные воздействия на материю. С уровня лабораторных разработок такие технологии перешли на уровень промышленности, и микроэлектроника перевернула весь мир.
Впрочем, еще раньше – примерно в конце Второй мировой войны – человек смог пробраться внутрь ядра, благодаря чему возникли атомные технологии. И так получилось, что их промышленное применение было осуществлено в 40–50-е годы прошлого века, а промышленное освоение микротехнологий началось несколько позже – в 60–70-е годы. Логично предположить, что развитие технологий должно было идти от микроуровня к наноразмерным объектам и дальше – к атомным технологиям. Но вышло иначе. Почему? Возможно, одна из причин – военное применение атомной энергии, что и стало мощнейшим драйвером развития этой сферы науки.
Так или иначе, нано- находятся между микро- и атомными технологиями. Нанотехнологии – это способность осуществлять целенаправленное воздействие в диапазоне от 1 до 100 нанометров, достаточно радикально меняя, таким образом, свойства материала.
Хронология нанотехнологий такова: в 1980–1990-е годы появилось большое количество научных работ и первых технологических прорывов, связанных с нано. Вспомните знаменитую фразу Ричарда Фейнмана: «Там внизу очень много места» (1961). «Там» – это на один уровень ниже, чем микро. В 1990-е годы после осознания возможности воздействовать на вещество на этом уровне последовало открытие важнейших и элементарных материалов и структур: фуллеренов, графена и нанотрубок. Нобелевскую премию за графен Андрей Гейм и Константин Новоселов получили уже в 2010-м. Именно тогда базовые и технологические прорывы на наноуровне стали превращаться в массовые. Причем речь идет о междисциплинарном тренде. Он касается конструкционных материалов, покрытий, фармацевтики, наноэлектроники, оптики и др. Междисциплинарность – одно из базовых свойств нанотехнологий. Выяснилось, что методы изменения свойств материалов на наноуровне начинают получать промышленное применение. Поэтому принятие Россией инициативы в 2007 году по предложению директора Курчатовского института Михаила Ковальчука кажется мне очень важным и позитивным.
Есть виды наноиндустрии, в которых не надо пытаться победить мир. Возьмите наноэлектронику. Например, компания TSMC – это гигантский автоматизированный конвейер, который проводит довольно однородные производственные операции в массовом масштабе. Но это не российская история – мы не очень большие мастера в массовых и стабильных операциях. Есть виды хай-тека, в которых мы вряд ли сумеем стать лидерами. И не потому, что в России мало квалифицированных кадров, а просто из-за самого характера такой деятельности
Сколько проектов вы финансируете, кто ваши партнеры, соинвесторы и каковы результаты на сегодняшний день?
У нас есть два вида деятельности: бизнес и инфраструктура. Начну с последней. Ею занимается ФИОП – Фонд инфраструктурных и образовательных программ, который входит в группу РОСНАНО. Он занимается созданием наноцентров (настоящих фабрик стартапов), инжиниринговых центров, стандартизацией, сертификацией, метрологией, образовательными проектами – то есть создает инфраструктуру, которая просто необходима бизнесу. А по коммерческой части наша задача – инвестировать в проекты, которые обеспечат создание наноиндустрии. Ее объем – важнейший показатель эффективности нашей работы, и к 2015 году он должен составить 900 миллиардов рублей. Продукции на 300 миллиардов произведут наши проектные компании, на 600 миллиардов – компании, которые прямого отношения к РОСНАНО не имеют, но для которых мы делаем инфраструктурные решения, чем косвенно их поддерживаем.
Необходимо сказать, что у нас усиливается бизнес-компонент. Требование возвратности вложений – важная причина наших последних преобразований. В этом году мы создали управляющую компанию и, по сути, становимся семейством фондов private equity, инвестирующих в российскую наноиндустрию на условиях возвратности и доходности. Сегодня у нас 94 проекта, которые охватывают различные отрасли – от металлургии и инструментального производства до фармацевтики и электроники. Общий объем проинвестированных средств – 140 миллиардов рублей. Для меня очень важно, что к этой сумме добавляется большой объем средств (около 170 миллиардов рублей), привлеченных в наши проекты от частных инвесторов.
У вас уже есть примеры успешных и неуспешных выходов?
Да, у нас уже есть несколько выходов. Разного масштаба, но в целом это позитивные истории с хорошей доходностью. Приведу один пример. Около шести лет назад мы нашли компанию IPG Photonics, основанную русским профессором Валентином Гапонцевым. Компания провела листинг на NASDAQ и стала одним из лидеров в мировом лазеростроении. Мы вложились в эту компанию с условием, что на наши средства в России появится производство. И его организовали в Московской области, в городе Фрязине. Сейчас построенный там завод играет для компании важную роль, потому что исторически вся она выросла из этого города. Мы вышли из проекта с доходностью чуть больше 20%.
Какие российские нанопродукты идут на экспорт?
Из общего объема произведенной в 2013-м году в России нанопродукции на 522 миллиарда рублей экспорт составил 94 миллиарда рублей. Приведу пример: пермская компания «Новомет». Группа инженеров, занимавшихся нефтянкой и насосами для нее, предложила две идеи. Первая – порошковая металлургия: за счет спекания нанодисперсного порошка изготавливаются сверхпрочные детали для самых сложных узлов погружных насосов. Вторая идея – нанопокрытия. Компания начинала с выручки в 3 миллиона долларов, а сейчас выросла до 350 миллионов и конкурирует на мировом рынке с Schlumberger. У нее большой объем экспорта, и с поставок насосов она выходит на сервисные функции для нефтяных компаний и очень последовательно и динамично развивается. Мы с удовольствием проинвестировали «Новомет».
Существует ли какая-то негласная страновая специализация в нанотехнологиях? Например, страна А – номер один в разработке биомедицинских наноматериалов, а страна Б – номер два в наноэлектронике.
Отчасти она есть. Но количество стран, которые занимаются наноиндустрией, ограниченно, и состав лидеров достаточно точно известен: США, Южная Корея, Япония, Тайвань, Финляндия и некоторые другие европейские страны. Ну и Китай, который весьма бурными темпами продвигается вперед. Внутри, например, группы БРИКС специализация тоже существует. Например, Индия – это, очевидно, авиастроение и фармацевтика, в том числе инновационная, хотя в большей степени дженерики. Если же говорить о лидерах в наноэлектронике, то первым делом надо вспомнить США и Тайвань.
У России нет своих приоритетных направлений?
В России формирование наноиндустрии началось совсем недавно. И не все компании, которые возникли в 2008–2010 годах, дожили до сегодняшнего дня. Но те из них, кто смог прорваться, вышли на объемы от 100 до 300 миллионов долларов. Да, это успех, но это не мировое лидерство.
Все-таки можно ли, оценив объем инженерных компетенций, который есть в России, сказать, какая у России сформируется направленность?
Эта направленность лежит немножко не в отраслевом срезе. Есть виды наноиндустрии, в которых не надо пытаться победить мир. Возьмите наноэлектронику. Например, компания TSMC – это гигантский автоматизированный конвейер, который проводит довольно однородные производственные операции в массовом масштабе. Но это не российская история – мы не очень большие мастера в массовых и стабильных операциях. Есть виды хай-тека, в которых мы вряд ли сумеем стать лидерами. И не потому, что в России мало квалифицированных кадров, а просто из-за самого характера такой деятельности. Но в той же электронике есть направления отдельных прорывов, и мы динамично движемся в этих направлениях. Как вы знаете, транзисторы работают на основе электромагнитных взаимодействий, тo есть хранят информацию в виде электрических зарядов, но есть новая платформа, основанная на использовании магнитных эффектов. Это магниторезистивная память (MRAM), которая хранит информацию в виде магнитных моментов.
В традиционной оперативной памяти компьютера для сохранения информации необходима постоянная подача электроэнергии: вы выключаете компьютер, и содержание такой памяти стирается, необходимо заранее сохранять информацию, например на жестком диске. А в магнитной памяти электроэнергия требуется только для перезаписи запоминающих ячеек. Вы можете записать информацию, и она будет храниться практически вечно – такая память полностью энергонезависима.
Затраты на электроэнергию значительны для всех видов электроники. Место для размещения своих дата-центров Google выбирает, исходя из необходимости минимизировать расходы на электроэнергию и, в большей степени, охлаждение. Кроме того, MRAM-память может оказаться новым прорывом, так как способна работать при достаточно высоких температурах, что открывает для нее новые возможности применения. Именно поэтому на площадке технополиса «Москва» мы вместе с нашими французскими партнерами запустили первое микроэлектронное производство по MRAM-технологии. И наши компетенции в этом серьезно помогли.
Бывают ситуации, когда наши компетенции помогают и в медицине. Среди наших проектов есть уникальные американские компании BIND Therapeutics и Selecta Biosciences, которые предлагают новые технологические платформы для разработки новых лекарств и вакцин. Они получили наши инвестиции с условием открытия подразделений в России. Со временем специалисты российских лабораторий BIND и Selecta доказали, что могут полноправно участвовать в развитии технологических платформ.
Большинство людей все еще не до конца осознали формирование наноиндустрии. Кажется, у «микро» был более короткий шаг до общественного признания. Но так происходит, наверное, с каждым новым витком. Какие открытия уже свершились? Что мы можем заметить «невооруженным глазом»?
Я не уверен, что у «микро» был шаг короче. Компьютеры появились в 1960-е, но когда они вошли в нашу жизнь? Впервые лэптоп я взял в руки в 1992 году. Важно понимать, что между выходом продукта на индустриальный и потребительский рынки существует зазор. Мне кажется, что микроэлектроника дошла до по-настоящему массового пользователя скорее в 1990-е, хотя появилась на 30 лет раньше. В каком-то смысле в наноиндустрии происходит то же самое. Абсолютное большинство наших проектов сегодня – не B2C. Но это естественный процесс и одна из причин критики в наш адрес: «А где же ваше нано? Деньги распилили, все понятно, а нано мы не видим!» Действительно, лишь небольшое количество наших продуктов адресовано потребительскому рынку. Есть небольшой стартап по нанокосметике в Уфе, они делают неплохой крем, но мы из этого проекта уже вышли. Есть хорошая мазь Flexiseq от ревматических болей. Или, например, недавний стартап – водоотталкивающее покрытие для лобового стекла автомобиля, созданное на основе гидрофобного состава. Не только эффективное, но и устойчивое к внешним воздействиям; такое вещество можно использовать для защиты всего автомобиля целиком или даже стекол зданий – разработки в этой сфере сейчас идут. Да, какие-то потребительские проекты появляются, но пока их немного. Подождите, это все не полгода работы и даже не год. У «микро» это заняло 20–30 лет.
Какие у вас пороговые значения? С какого момента проект вас начинает интересовать?
В группе РОСНАНО есть некоммерческая часть в виде Фонда инфраструктурных и образовательных программ. И в нем мы начинаем с нулевого порога, создаем стартапы из ничего. Я упомянул наноцентры – это фабрики стартапов. Первый наноцентр мы ввели только года два назад. Сейчас в России работают уже 11 наноцентров и 275 созданных ими стартапов – от Татарстана и Ульяновска до Мордовии и Новосибирска.
Какова скорость нарастания этого потока стартапов? И каково их качество?
Конечно, существуют строгие KPI. У каждого наноцентра есть плановое количество стартапов, которые необходимо создать в течение года. Да, уровень их «смертности» довольно высокий, около 70–80%. В то же время из ОАО «РОСНАНО» мы смотрим на них глазами инвесторов, потому что молодая, динамично растущая компания – это возможный объект для будущих инвестиций.
До 2016 года вы планово убыточные. Со всем сегодняшним контекстом не возникает ли у вас ощущения, что нужно эту границу сдвигать на два-три года?
Я думаю, что нет. У этих цифр есть и абсолютно объективная причина, а есть и какие-то наши ошибки. Объективная сторона простая: любой private equity фонд сначала ищет проекты, потом отбирает, инвестирует, начинает строить. Фундамент, стены, оборудование, наладка и... пуск! После старта производство нужно отладить, вывести продукты на рынок, и только после этого оно начнет приносить доход. И тогда уже можно выходить из проекта. В нормальной жизни этот процесс занимает не менее пяти лет. А в российской жизни все, что связано с реальным сектором, гораздо сложнее, длительнее и труднее. В этом смысле ты пять лет постоянно вкладываешь и по определению не можешь быть доходным. Такова особенность нашего бизнеса, которую мы не можем до сих пор разъяснить общественности.
Отдать свои деньги, чтобы вы на них зарабатывали? Для этого нужно иметь невероятное доверие. Люди из списка Forbes обязательно спросят: «Ты лучше меня будешь зарабатывать? Что-то тебя я в Forbes-100 не вижу… Ты кто такой?» Отечественная ментальность еще не дозрела до понимания, что private equity – это отдельный вид деятельности, в котором формируется своя профессиональная компетенция. В этой отрасли торгуют не деньгами, а собственным умением вкладывать. Для этого нужны время, авторитет и репутация. Это только начинает формироваться – не только со стороны управляющих, но и со стороны инвесторов
Но 2016 год – не слишком ли оптимистичный прогноз?
Надеюсь, что не слишком. Да, помимо объективной особенности нашего бизнеса есть и ошибки. Мы ошибочно проинвестировали некоторые проекты, потеряли деньги. Но тем не менее мы не сдвигаем сроки выхода на окупаемость, и я не хотел бы, чтобы мы делали это в будущем.
Как устроена индустрия прямых инвестиций в России?
Это очень интересная сфера. В России она возникла 10–15 лет назад, и за это время сформировались отечественные компании с большими именами. Например, у Baring Vostok репутация сильнейшей команды, и уровень доверия к ним таков, что они очень легко привлекают деньги. Но в то же время за 10–15 лет private equity не стала массовой индустрией, на рынке утвердились лишь единицы управляющих компаний. Более того, сама отрасль выстроена совершенно парадоксальным образом, который трудно укладывается в голове: для вложения в России профессиональные управляющие привлекают деньги на Западе! То есть в самой России они не собирают денег вообще. Это означает, что местные инвесторы не умеют и не готовы инвестировать в private equity. Да, это очень специальный вид бизнеса, для которого раньше даже не существовало юридических рамок. Вместе с Минэкономразвития мы наконец создали правовую основу, появился закон, который позволяет заниматься private equity в России в юридически корректной форме. Российское инвесттоварищество – это и есть аналог фонда private equity.
Конечно, интереснее всего в Китае. То, что там происходит, – это буря и натиск. Каждые два-три года все меняется, рождаются целые отрасли, которых просто не было раньше. И иногда это происходит настолько бурно, что своим взрывным ростом они разрушают мировой рынок. В пример можно привести трагическую для РОСНАНО историю – поликремний. Когда мы начинали строить поликремниевый завод в Иркутской области, в Китае практически отсутствовало аналогичное производство. На момент, когда мы свой завод построили, Китай ввел в работу производства, которые по мощности сопоставимы с объемом всего мирового рынка
Думаю, что состав российских инвесторов в private equity начинает формироваться только сейчас. Кто является классическим инвестором в этой сфере?
Во всем мире их виды давно известны. Во-первых, это пенсионные фонды. В России негосударственные пенсионные фонды вообще не имеют юридического разрешения для вложений в private equity. Подобная ситуация наблюдалась в США: индустрия 20 лет жила с объемами на уровне 100 миллионов долларов в год, но в конце 1970-х годов американским пенсионным фондам разрешили инвестировать в private equity. И индустрия пошла вверх невероятными темпами – сегодня ее объем превышает банковский сектор.
Не так давно председатель правительства поручил Центральному банку и Министерству финансов совместно с нами разработать предложение, которое сможет открыть российской пенсионной системе возможность инвестировать в private equity. Сегодня в российских НПФ находится больше 2 триллионов рублей. Один процент от них – это 20 миллиардов рублей. И это возобновляемые деньги. Очевидно, что так можно в корне изменить всю ситуацию.
Во всем мире существуют эндаументы, целевые фонды для некоммерческого использования – в образовании, медицине или культуре. Конечно, у нас в стране их очень мало, буквально единицы – Сколково, МГИМО да Высшая школа экономики. Не стоит забывать и о семейных офисах состоятельных россиян, которые тоже должны как-то размещать свои деньги. В России этот набор limited partners только начинает формироваться. Я думаю, что мы находимся в точке старта, и следующие пять лет обещают резкий рост объемов средств, доступных для индустрии.
Но если у институциональных инвесторов России есть проблемы, то какие трудности могут быть у частных инвесторов?
Сознание. Отдать свои деньги, чтобы вы на них зарабатывали? Для этого нужно иметь невероятное доверие. Люди из списка Forbes обязательно спросят: «Ты лучше меня будешь зарабатывать? Что-то тебя я в Forbes-100 не вижу… Ты кто такой?» Отечественная ментальность еще не дозрела до понимания, что private equity – это отдельный вид деятельности, в котором формируется своя профессиональная компетенция. В этой отрасли торгуют не деньгами, а собственным умением вкладывать. Для этого нужны время, авторитет и репутация. Это только начинает формироваться – не только со стороны управляющих, но и со стороны инвесторов.
На последнем Санкт-Петербургском форуме мы впервые провели панельную дискуссию по этой теме, впервые собрали вместе limited partners и general partners. И я с большим уважением отношусь к Baring Vostok, Russia Partners и другим компаниям, которые гораздо профессиональнее нас, которые имеют 15 лет опыта. Сейчас мы все вместе договорились о создании некоммерческой ассоциации, которая будет продвигать в России сам проект private equity индустрии.
Пока российская индустрия очень отстает от того, что происходит у соседей по БРИКС. Или это не так?
Если говорить о мире, то там происходит уже постреволюция. На последнем конгрессе по прямым инвестициям выступал президент Carlyle с предложением изменить базовые понятия, так как сейчас private equity относится к категории альтернативных инвестиций. Но какие же они альтернативные, если их объем в 1,5 раза больше, чем у так называемых классических.
Если говорить о БРИКС, то я не знаю серьезных бразильских компаний. Вижу несколько индийских и колоссальное количество китайских. Думаю, их количество исчисляется сотнями. А в России их единицы. В Южной Африке знаю одну-две. В этом смысле Россия на среднем уровне. Она послабее Китая, но сильнее остальных соседей по БРИКС.
Какие российские регионы, на ваш взгляд, готовы к работе с иностранными инвесторами, заинтересованными в научно-технологических бизнесах?
По опыту работы у нас сформировался список из примерно 15 регионов, которые всерьез, цепко и напористо занимаются инновациями в целом и наноиндустрией в частности – несмотря ни на какие политические трудности. В лидерах – Москва, Татарстан, Мордовия, Новосибирск, Томск, Пенза, Ульяновск. В этой сфере их работа выстроена системно. В последнее время хорошую динамику также демонстрирует Самара.
Насколько плотно Россия сотрудничает или не сотрудничает в научно-технологической сфере с развивающимися странами?
В целом уровень сотрудничества я бы описал как недостаточный. Очевидное исключение – Китай, с которым наращивается взаимодействие, в том числе и со стороны РОСНАНО. Нам очень интересна Индия, но отношения пока не очень сильны. Я совсем не вижу серьезного взаимодействия с Бразилией. Существуют связи с ЮАР в хорошо растущей отрасли солнечной энергетики, но тоже довольно слабые. Но по большей части это исключение.
Конечно, интереснее всего в Китае. То, что там происходит, – это буря и натиск. Каждые два-три года все меняется, рождаются целые отрасли, которых просто не было раньше. И иногда это происходит настолько бурно, что своим взрывным ростом они разрушают мировой рынок. В пример можно привести трагическую для РОСНАНО историю – поликремний. Когда мы начинали строить поликремниевый завод в Иркутской области, в Китае практически отсутствовало аналогичное производство. На момент, когда мы свой завод построили, Китай ввел в работу производства, которые по мощности сопоставимы с объемом всего мирового рынка. Само собой, рынок катастрофически рухнул, а десятки крупнейших компаний обанкротились. И наш проект вместе с ними: начинали с цены 400 долларов за килограмм поликремния, а закончили 16 долларами. 25-кратного снижения было не выдержать, в итоге проект оказался неудачным. Обанкротился и ряд китайских компаний, поскольку они тоже не ожидали от себя такого.
Мы только выстраиваем настоящие взаимоотношения с Китаем, в котором нам интересны и инвесторы, и возможные проекты. РОСНАНО планирует резко активизировать свое китайское направление. Надеемся, что в ближайшее время мы создадим венчурный фонд с китайскими и корейскими партнерами.
Что из того, что разрабатывалось внутри РОСНАНО, начнет производиться в ближайшие годы?
Ядерная медицина. Направление, которое в мире динамично развивается, в России находится в самой начальной стадии. Несколько месяцев назад в Уфе мы запустили Центр позитронно-эмиссионной томографии, и он показывает очень высокую эффективность. Активно помогло руководство республики и ее президент Рустэм Хамитов. Здесь могут поставить диагноз на самой ранней стадии развития заболевания, когда никакими другими способами он не ставится. Профиль этого центра – онкология и сердечно-сосудистые заболевания, то есть две главные причины смертности в России. Причем в обоих случаях ранняя диагностика радикально улучшает шансы на излечение. В этом году мы планируем запустить аналогичные центры в Брянске, Воронеже, Липецке и Орле. Вслед за ними пойдет вторая волна – еще девять регионов, вплоть до Дальнего Востока. И это тот B2C, о котором мы говорили. Кроме того, мы надеемся на отечественное оборудование, которое в дальнейшем можно будет использовать. Поэтому сотрудничество с Росатомом кажется нам крайне перспективным и интересным.
Теперь о B2B. Хорошо известно, что добавление нанотрубок, скажем, в алюминий приближает его по прочности к титану. Композит из меди и нанотрубок имеет проводимость меди, но выдерживает электрический ток в сто раз большей силы. Пластики становятся электропроводными, и их прочность растет на десятки процентов. Нанотрубки оказывают радикальное влияние на свойства резины, красок, керамики, цемента, а также на свойства литий-ионных батарей и композитов. Последнее важно для множества отраслей, и в том числе для автомобильной.
Эти знания накапливались последние 20 лет, в мире зарегистрировано более 18 тысяч международных патентов по использованию нанотрубок для улучшения свойств материалов, но все это время существовали две фундаментальные проблемы. Первая: отсутствовала технология массового производства нанотрубок со стабильными свойствами. Вторая: проблема внедрения нанотрубок в материал – если добавить нанотрубки в сплав алюминия, то они попросту всплывут или растворятся. Так вот, у нас есть основания считать, что мы полностью решили первую проблему: разработали уникальную технологию производства одностенных углеродных нанотрубок, которая впервые решает проблему их масштабного производства. По критерию «цена/качество» она лучше всех мировых аналогов. Что касается второй проблемы, то мы приближаемся к ее решению по целому спектру материалов.
Я говорю о новосибирской компании OCSiAl, во главе которой стоят сильный предприниматель Юрий Коропачинский и талантливый ученый Михаил Предтеченский. У них очень мощная команда, и именно сейчас она вышла на прорыв. На территории новосибирского академгородка запущено производство, вовсю идет разработка конкретных применений. Я думаю, это направление, в котором Россия может претендовать на мировое лидерство. Похоже, наша проектная компания добралась до того, что никак ни у кого не получалось, – до промышленного масштаба этой технологии. Мы рассчитываем, что уже в будущем году она покажет результаты в различных отраслях применения.
Каких новых открытий вы сами ждете больше всего? И какие особенно интересные лично вам разработки находятся на стадии тестирования?
Мне интересна тематика регенеративной медицины. Искусственное выращивание органов способно совершить колоссальный прорыв в медицине – думаю, ближе к 2020-м годам. Мне интересно все, что основано на биоинформатике, когда знание, например, генома человека позволяет предложить ему индивидуальные фармацевтические средства, учитывающие специфику организма.
Я верю в будущее наноматериалов, а именно в углеродные нанотрубки. Подумайте: весь мир, вся техносфера состоит из металла, пластика и цемента. Это материалы, которые сегодня изготавливаются сотнями миллионов тонн. И вот с помощью добавления нанотрубок вы получаете увеличение механической прочности на 20–50%! Масштаб этой революции трудно оценить. Увеличение прочности ведет к уменьшению массы конструкции, что в случае транспорта означает снижение потребления топлива. Более того, по всей цепочке изготовления изделия возникают мультипликативные эффекты, которые радикально увеличивают энергоэффективность и снижают материалоемкость техносферы. И особенно важна здесь потенциальная массовость применения этой технологии в традиционно российских отраслях – металлургии и промышленных материалах, электротехнических изделиях и пластике.
И я рад привести пример: вместе с нижнекамскими шинниками мы находимся на стадии завершения проекта по использованию нанотрубок при производстве автомобильных покрышек. Существует «золотой треугольник» параметров шин – тормозной путь, топливная эффективность и истираемость шин, он «волшебный», потому что если вы улучшаете один параметр, то другой обязательно ухудшается, они противоречат друг другу. Внедрение нанотрубок в шины улучшает все три параметра одновременно в диапазоне 10–25%, что является уникальным результатом. Надеемся, что в будущем году мы перейдем к опытно-промышленному производству. Перспективно и добавление нанотрубок в пластики и композиты. Одна из крупнейших проблем этих материалов – окраска. АБС-пластики или SMC-композиты, из которых изготавливаются десятки миллионов автомобильных деталей в год, для покраски необходимо сначала загрунтовать – просто потому, что эти материалы неэлектропроводны. С нанотрубками они окрашиваются дешевым и экологически безвредным методом порошковой электростатической окраски вместе с металлическими деталями по той же технологии. Введение нанотрубок в композитные материалы для авиастроения способно в ближайшей перспективе решить проблему молниезащиты.
В общем, применение нанотрубок в базовых конструкционных материалах на уровне массовых технологических процессов может дать десятки или сотни прорывов в реальном секторе экономики. И мне кажется, что мы имеем все шансы, чтобы оказаться здесь на мировом уровне, если вообще не выйти в лидеры.