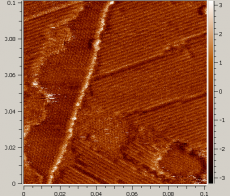В шутку я называю себя «последним физиком» Советского Союза. 25 декабря 1991 года защитил кандидатскую, а через два часа Горбачев объявил, что СССР больше нет. Надеюсь, не моя диссертация стала последней каплей. Вместе с Союзом рухнула и наука. Это была невероятно скоропостижная смерть. Когда через месяц после защиты я вернулся в Троицк, с удивлением обнаружил: в лаборатории ничего нет. Нет газа, который мы запускали в контур CO2-лазера, нет жидкого азота, которым охлаждали приемник для измерения параметров излучения. Тогда я понял: наука померла, а меня не спросила. Сегодня каждый раз, когда кто-то смотрит мою биографию, особенно американцы, говорят: «Ну, все понятно: сначала академическая карьера, потом бизнес». А я отвечаю: «Ребята, а меня кто-то спрашивал? Может, я до сих пор считаю, что, только когда занимался наукой, я был на своем месте».
C IT все получилось почти случайно. С друзьями мы разработали проекционный сканер — первый в стране, до этого были только допотопные HP, безумно дорогие. Наш сканер мог сканировать и лист бумаги, и пейзаж за окном. Раскрутились, начали продавать — это был неплохой бизнес. Потом переключились на перспективные на тот момент мультимедиа — делали красивые путеводители по Москве, два года оцифровывали энциклопедии: Большую Советскую, Кирилла и Мефодия, Большой энциклопедический словарь. Смеемся сейчас: бросив физику, я внес большой вклад в «энциклопедическую науку». Как только мне стало понятно, что интернет вытесняет мультимедиа, драйв пропал. Как в спорте: 2,50 ты уже прыгнул, а 2,80 тебе не взять никогда. И я ушел в интернет.
Знаете, в чем отличие наших программистов от западных? Там есть индустрия разработки софта, реальная индустрия со своими правилами и процессами. А у нас этому не учат нигде. Того, что на Западе называется computer science, в России как предмета, специальности не существует. Наши программисты приходят из науки: чистой математики, алгоритмической математики, физики. Поэтому они легко могут воротить такое, чего не может никто в мире. За это нас ценят на Западе.
Парадоксально звучит: технических вузов в стране много, а найти подходящих специалистов для IT-индустрии — проблема. Все дело в том, что в вузах некому преподавать, профессора подходят к предельному пенсионному возрасту. Во главе лабораторий сегодня те, кому сильно за 50. В августе не стало Сергея Петровича Капицы, он был одним из первых моих преподавателей в МФТИ — читал физику на первом курсе. Что будет дальше? Либо придут молодые, которые смогут учить, либо все будет плохо.
В той науке, которой я занимался, есть поколение 50–60-летних, а дальше — поколенческая дырка до 30. А учат-то как раз те, кому 40. Боюсь, что это может аукнуться нам в ближайшее время. Когда после института я пришел работать в троицкий филиал Курчатника (Институт атомной энергии им. Курчатова. — Forbes Life), моему шефу было лет 35, заведующему лаборатории — 40, начальнику отдела (члену-корреспонденту) — 50, и то он казался мне бесконечно старым, столько не живут. Эти люди учили меня. А кто будет учить сейчас? Молодежь не будет преподавать, пока не будет уверена, что сможет этим достойно зарабатывать на жизнь. То, сколько мы платим сейчас преподавателям в университетах, просто стыдно. Как будто специально все делаем для того, чтобы ученые уезжали на Запад.
Еще одна проблема: у нас совершенно неправильно поставлена преподавательская деятельность. В Америке у профессора достаточно много свободного времени, он читает лекции, консультирует студентов, у него есть деньги на научные разработки и — о чудо! — один свободный день в неделю. А у нас профессор вынужден и читать лекции, и вести семинары, и делать отчеты и всякую бюрократическую рутину. Зачем? В западном университете у профессора есть толпа аспирантов, которая занимается ведением семинаров, а он сосредоточен преимущественно на научно-исследовательской работе. В Стэнфорде в том случае, если профессор преподает 10 лет подряд, на него смотрят с подозрением: «А он что, больше ничего не может?» Там считается нормальным, когда человек время от времени покидает университет, работает в какой-то компании, потом возвращается. Таким образом, он все время в струе, знает жизнь вокруг. А у нас вы можете представить себе профессора, который параллельно занимается бизнесом?
Я так много говорю о проблемах в образовании, которые с годами могут только усиливаться, потому что вижу, что делают в этом направлении другие страны. Не будем далеко ходить за примером: в соседнем Казахстане есть государственная программа, по которой молодые люди могут отучиться в международном университете бесплатно, за счет государства при условии, что потом вернутся и четыре года отработают в Казахстане. Полтора года назад в Лондоне в четырехчасовой очереди за билетами на выставку Леонардо да Винчи рядом со мной стояли молодые девушки из Казахстана — студентки одного из лондонских университетов, а чуть позже к ним подъехал одноклассник, который сейчас учится в Манчестере. Тогда я понял: это гораздо более массовое явление, чем мне казалось. При этом они не богаче нас, у них та же структура экономики: нефть, газ, экспорт, но они по-другому мыслят, закладывают камень в будущий фундамент. Почему бы и нам не инвестировать в образование?
Пора признать: наши университеты не входят в сотню самых известных. Какие-то попытки пытаются предпринять в инновационном центре «Сколково» — Кремниевой долине ближайшего Подмосковья. Но надо усвоить: Долина в Штатах не является искусственным насаждением, она возникла в центре треугольника из трех университетов: Stanford, Berkeley, San Jose. В России тоже есть сильные технические университеты, которые могут поставлять кадры в «Сколково», подпитывать его. В СССР такой опыт был: на старших курсах мы появлялись в институте не больше двух раз в неделю — все остальные дни работали на базовых кафедрах и в лабораториях, так что после защиты диплома нам не нужно было долго «въезжать» в дело.
Сегодня важно понимать: высокотехнологичные проекты требуют инвестиций. Невозможно заниматься высокой медициной, если у тебя нет МРТ-установки, или генетикой, если нет реактивов. Когда два года назад Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевку за графен, было и радостно, и грустно одновременно. Гейм — мой однокурсник, мы год жили в одной общаге, на одном этаже. Я знаю, что он никогда не вернется в Россию. Зачем, какой смысл? Там у него есть лаборатория, все условия для работы. А здесь — ничего. Гейм рассказывал в каком-то интервью, что аппаратура, которая нужна была им на старте, стоила примерно $100000. Если бы они остались, эта сумма окупилась бы тысячекратно. А в итоге мы потеряли ученого, уникальные разработки, кучу патентов. Да, я понимаю, что в 1990-е было немного не до науки. Но у меня есть сильные подозрения, что даже тогда эти $100000 не были бог весть какими деньгами.